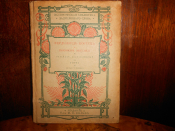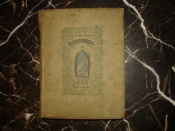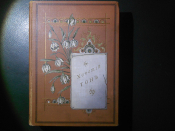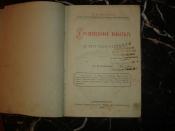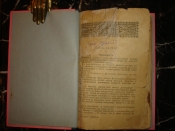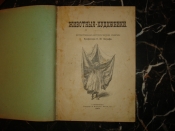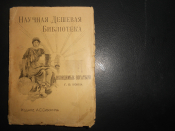РЕДКОСТЬ.ПРИЖИЗНЕННОЕ ИЗДАНИЕ.Священник Мерцалов, Евгений
От Петрозаводска до Иерусалима и обратно : (Путевые заметки и впечатления паломника) / Свящ. Е. Мерцалов. Вып. 1-2. - Петрозаводск : Олонецкая губернская типография,1900г.В двух выпусках:первый-87стр.,второй-91стр.Увеличенный формат. Состояние на фото,доставка лота в другой регион-почта России.Путешествие священника Евгения Мерцалова (1857–1920), впоследствии епископа Олонецкого и Петрозаводского, в Святую Землю состоялось в 1899 г. Дневниковые записи были переработаны автором и опубликованы в журнальном и книжном вариантах, встретив сочувствие и интерес читающей публики, главным образом в российской провинции.В настоящее время труд епископа Евгения (Мерцалова) представляет интерес для изучения русского присутствия в Палестине в начале XX столетия, русского паломничества и деятельности Императорского Православного Палестинского Общества как в России, так и на Ближнем Востоке. Повествование передает эмоциональные впечатления очевидца живым образным языком и будет интересно для всех, кто интересуется историей русского религиозного паломничества и Православия на Востоке.Путешествие в Святую Землю Евгений Мерцалов совершил летом 1899 г. В ходе паломничества он вел дневник. Не вызывает сомнений, что беглые поденные записи, сделанные в пути, были в дальнейшем поправлены, существенно расширены и литературно обработаны. Тем не менее, этот источник личного происхождения имеет формальные признаки дневника, т. к. записи структурированы по дням. К сожалению, текст не разбит на абзацы, и это усложняет восприятие содержания. Дневник состоит из четырех разделов. Первый из них под названием «Предисловие» повествует о том, как у автора возникла идея паломничества, о своем пребывании на пути за границу в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе и о плавании по Черному морю. Во втором разделе «Константинополь и его предместья» автор очень подробно рассказывает о христианских и мусульманских достопримечательностях турецкой столицы. Третий раздел под названием «До Иерусалима» описывает плавание по Мраморному, Эгейскому и Средиземному морям, остановки на различных островах, в Смирне (Измире), в ливанских портах Триполи и Бейруте, а также прибытие в Яффу и путешествие по железной дороге до Иерусалима. В четвертом разделе «Иерусалим и его окрестности» говорится о путешествии по святым местам Палестины.Мало мемуаристов описывали свое путешествие столь подробно и с таким глубоким знанием исторических реалий, как это сделал о. Евгений Мерцалов.Текст дневника написан живым и доходчивым русским языком. Не лишены подлинной художественности описания красот природы в Константинополе, Ливане и Палестине. В подтверждение сказанного приведем помещенное в дневнике описание города Бейрута: «Высокие дома с плоскими крышами, постепенно понижаясь, спускались амфитеатром почти к самой воде, над ними выделяется несколько христианских храмов, а левее, тотчас же за городом, раскинулись роскошные сады, за которыми величаво высится хребет Ливана диадемой снегов на царственных вершинах. Пинии и кедры одели его подножие и, как передовая рать лесных полчищ, спустились, надвигаясь, к самому взморью».Побудительным толчком для поездки Мерцалова в Палестину стала увиденная им в газете заметка о том, что в Палестину собирается группа гимназистов из Казани, руководителем которой являлся один из их педагогов Н.К. Горталов (он часто упоминается на страницах дневника под буквами Н.К.). Отец Евгений решил примкнуть к ним. С одной стороны, это имело положительные последствия, т. к. Горталов ехал на Ближний Восток не в первый раз, и все путешествие, в том числе в мелких его деталях, было хорошо организовано. С другой стороны, о. Евгений не раз испытывал в компании этой мирской публики внутренний дискомфорт, т. к. гимназисты и их руководитель явно относились к вышеназванной категории «идущих», а о. Евгений, естественно, направлялся в Святую Землю как «пилигрим». В тексте автор дневника несколько раз упоминает о том, что он пожалел о своем присоединении к компании шумных гимназистов, которые были большими любителями песен, а пели они, естественно, не псалмы и не канты.Дневник Е.А. Мерцалова вполне мог служить путеводителем для последующих поколений паломников. В нем даются краткие и внятные сведения о том, как получить паломническую книжку, оформить заграничный паспорт, как и за какую плату можно нанять экипаж для путешествий в Иерусалиме и т. п.На читателя производит большое впечатление эрудиция автора. Он не только читал источники, научную и популярную литературу о Востоке, но и прекрасно разбирается в иконописи, фресковой живописи, мозаичном искусстве, архитектуре. Его личные впечатления от Константинополя, Иерусалима или других городов сопровождаются развернутыми справками об истории этих городов. В книге даны также профессионально составленные географические очерки, например, о Мертвом море и реке Иордан. На страницах дневника о. Евгений вступает в заочный спор с исследователями, точка зрения которых представляется ему ошибочной. Например, он критикует мнение английского исследователя Гордона о месте расположения горы Голгофы.С особым почтением отзывается о. Евгений об архимандрите Антонине (Капустине), который долгое время возглавлял Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме, приобрел для нее целый ряд участков в Палестине, основал несколько важных духовных и светских учреждений в Святой Земле. Посетив могилу о. Антонина, Е.А. Мерцалов называет его «трудником земли русской» и так характеризует его многогранную и многотрудную деятельность: «Один, без поддержки, почти без средств, целых 30 лет, отбиваясь от врагов и лжебратий, держал он высоко русское знамя и ему Россия обязана, что за 30 лет она не только не сделала во Св. Земле шага назад, но быть может не один, а несколько вперед!»Немало радостных минут доставило о. Евгению и его спутникам посещение русских школ на Ближнем Востоке – в Бейт-Джале, Бейруте и Триполи. Здесь их гостеприимно принимали русские учительницы, о просветительной миссии которых автором сказаны теплые прочувствованные слова. Отец Евгений беседовал с этими девушками – энтузиастками своего дела, они рассказывали ему об особенностях обучения арабских детей.Русские паломники испытали в русских школах Ливана и Палестины моральное удовлетворение и прилив патриотизма, когда обнаружили на самых видных местах не только портреты турецкого султана, но и русского императора с императрицей, а также текст национального гимна «Боже, царя храни». В приемной Патриарха Иерусалимского помимо этого находились портреты председателей Императорского Православного Палестинского Общества – великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны.Невеселые мысли посетили автора также тогда, когда он увидел, что турецкие солдаты несут охрану храма Гроба Господня в Иерусалиме и пещеры в Вифлееме, где появился на свет Спаситель. На этот раз в дневнике открыто задается вопрос: «Отчего бы, в самом деле, в храме не иметь сторожей из христиан?»Не менее серьезное огорчение, которое испытал автор при посещении святых мест, было вызвано тем небрежением, в котором они содержались. Отцу Евгению сразу же бросилось в глаза то, что в величайшей общехристианской святыне – храме Гроба Господня украшения потрескались, карниз обвалился, везде много пыли. Пещера четверодневного Лазаря, воскрешенного Иисусом Христом, также содержалась неопрятно – мрамор на украшениях почернел, а в углах скопился мусор.Скорее не огорчение, а разочарование паломник испытал при неоднократном посещении в Палестине православного богослужения по греческому обряду.Но дело было даже не в этих обрядовых различиях, а в общем настрое греческого духовенства, которое отправляло службу без благолепия и торжественности, характерных для России. Автор приводит высказывания разочарованных русских паломников, удалявшихся их храма Гроба Господня после всенощной: «Эх, если бы нашего архиерея сюда, совсем не то было бы!»В тексте дневника постоянно незримо присутствует обобщенная категория «другого» или «чужого», которое противостоит автору и его соотечественникам, вызывая неприятие и даже отторжение. Такого рода чувства нередко охватывали русских паломников уже во время двухдневного пребывания в турецкой столице, улицы которой раздражали русских обилием нечистот и стаями бездомных собак. Аналогичные чувства испытывали путешественники в вагоне поезда, направлявшегося из Яффы в Иерусалим. Попадавшиеся по дороге жилища местного населения напоминали им хлева для домашнего скота. Паломники, давно готовившиеся к встрече со святыми местами, в Иерусалиме были неприятно поражены разноязычным гомоном толп народа на улицах, выкриками разносчиков, постоянно встречавшимися караванами верблюдов и ослов с различной кладью. Эта суета совсем не гармонировала со званием «святого града», которое носил Иерусалим.Понятие «чужого» возникает и при описании автором иудейской святыни – Стены плача в Иерусалиме. С одной стороны, в словах автора сквозит сочувствие нелегкой судьбе еврейского народа, с другой стороны, он убежден, что иудеи сами виноваты в своих несчастьях, т. к., давно ожидая мессию, не сумели увидеть его в Иисусе Христе.Негативные впечатления остались у паломников от тех многочисленных нестроений, которые возникали среди христиан разных исповеданий. Упоминая о святых местах Палестины, автор дневника часто указывает, кому они принадлежали – православным, католикам или армянам, иногда – совместно первым, вторым и третьим. Распри этих конфессий приводили к тому, что представители их не могли договориться о совместном ремонте храма Гроба Господня или иных святынь. Е.А. Мерцалов подчеркивает, что особенно много препятствий восточным христианам – грекам и русским, чинили католики или, как он их часто называет, «латиняне».Как оказалось, турецкий часовой около пещеры, где родился Иисус, стоял не только для того, чтобы зримо обозначить присутствие османской власти, но и для предотвращения конфликтов между представителями разных христианских верований. Также автор с тревогой сообщал читателю, что католическая и протестантская пропаганда в Палестине с годами становится все более интенсивной, в результате чего в сети латинских «ловцов человеков» попадало немало местных арабов, которые до этого исповедовали православие.Только отрицательные эмоции вызвал у Е.А. Мерцалова и его спутников «агрессивный маркетинг», характерный для Востока. Торговцы в Константинополе и Палестине крайне навязчиво предлагали свой товар, который русским иногда просто не был нужен. В Константинополе автор дважды сталкивался с навязчивым предложением экскурсионных услуг, один раз предлагал провести паломников по местным достопримечательностям турок, в другой раз еврей. Причем оказалось, что эти гиды были профессионально некомпетентными и не очень хорошо знали город.Глубокое возмущение русских паломников порождало постоянное требование «бакшиша» местным населением за самые пустяковые услуги, вне зависимости от того, нужны они или нет. Самым распространенным словом, которое паломники слышали от турок и арабов, было «бакшиш» (по-русски – «на чай»).Чаще всего упоминаемый в дневнике персонаж – это не какой-либо христианский иерарх, дипломат или известный исторический деятель, а кавас Палестинского общества Марко Джурич. Кавасами назывались служащие ИППО, которые выполняли обязанности охранников, проводников и экскурсоводов для групп паломников, прибывавших в Святую Землю. Среди нескольких кавасов, находившихся на службе у Палестинского Общества, старшим был Марко, который ежедневно и ежечасно охранял и водил по святым местам ту группу, в которую входил Евгений Мерцалов. Кавас охранял русских поклонников от пустынных разбойников, от мошенников, готовых обобрать простодушных богомольцев, от пристававших к ним нищих и от мздоимства различной мелкой чиновничьей сошки.Отличительной особенностью мемуаров Евгения Мерцалова является то, что в них подробно сказано о деятельности Императорского Православного Палестинского Общества по организации православного паломничества к святыням Палестины.К сожалению, за рамками опубликованного текста оказались последние дни пребывания о. Евгения в Святой Земле и возвращение его домой. Как нам представляется, причиной этого стало назначение в 1901 г. о. Евгения Мерцалова на многотрудную должность инспектора Олонецкой духовной семинарии, а в дальнейшем, в 1902 г. – на должность ректора этого учебного заведения. В результате служебных обязанностей у него стало значительно больше, и ему так и не удалось закончить публикацию дневника.


















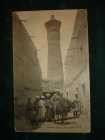








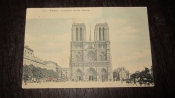
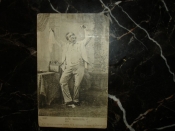

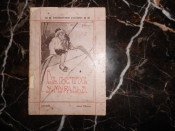
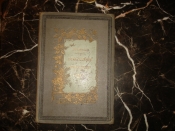
![Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Императорской Академии наук. [В 4-х томах]. Тома I – IV. Комплект в двух переплетах. 1867-1868 гг. Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Императорской Академии наук. [В 4-х томах]. Тома I – IV. Комплект в двух переплетах. 1867-1868 гг.](/files/coins/854354/preview_slovar_cerkovnoslavyanskogo_i_russkogo_yazyka_sostavlennyy_vtorym_otdeleniem_imperatorskoy_akademii_nauk_v_4_h_tomah_toma_i_iv_komplekt_v_dvuh_perepletah_1867_1868_gg.jpg)
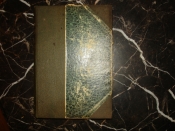
![Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Императорской Академии наук. [в 4-х томах]. Т. 1-2 [А-Н]. [Первое издание]. 1847 г. Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Императорской Академии наук. [в 4-х томах]. Т. 1-2 [А-Н]. [Первое издание]. 1847 г.](/files/coins/879307/preview_slovar_cerkovnoslavyanskogo_i_russkogo_yazyka_sostavlennyy_vtorym_otdeleniem_imperatorskoy_akademii_nauk_v_4_h_tomah_t_1_2_a_n_pervoe_izdanie_1847_g.jpg)
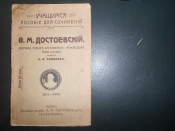
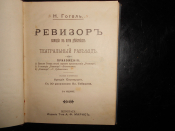
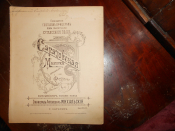

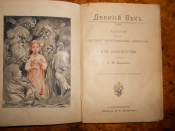
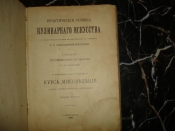

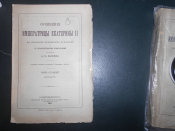
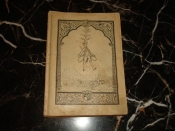
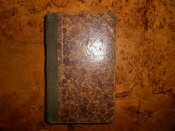
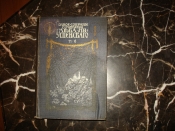
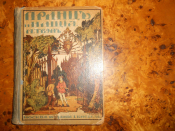

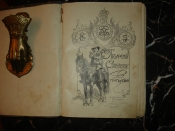
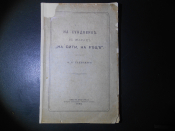
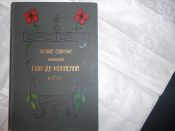
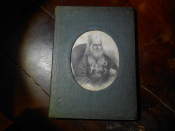
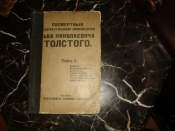
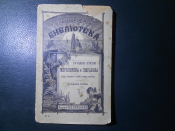
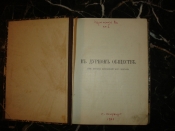
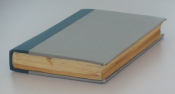
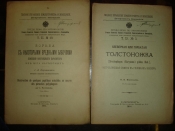
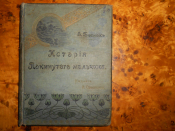
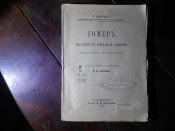
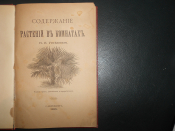
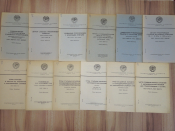
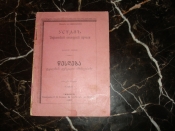
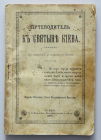


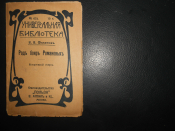
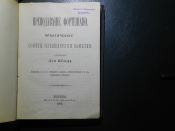
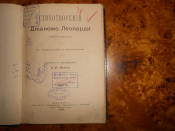
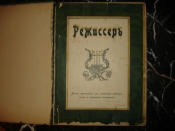

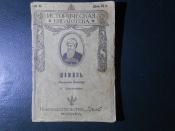

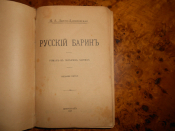
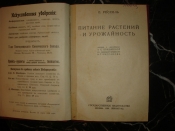
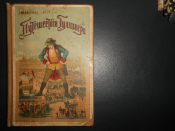


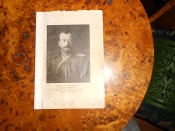
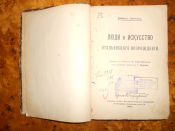
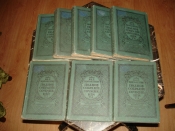
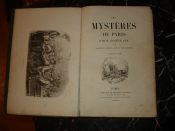

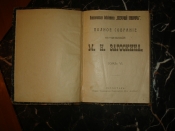
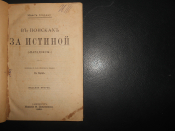
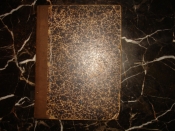
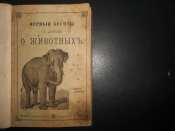


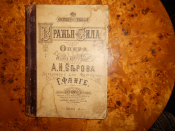

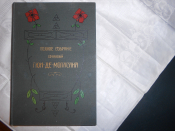
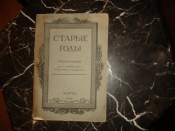
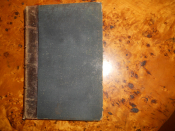
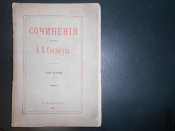


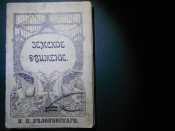
![Руководство к употреблению расчетной линейки А.В.Фабера. [СПб.]: Издание Русского Курьера (Берлин). 1901 г. Руководство к употреблению расчетной линейки А.В.Фабера. [СПб.]: Издание Русского Курьера (Берлин). 1901 г.](/files/coins/802599/preview_rukovodstvo_k_upotrebleniyu_raschetnoy_lineyki_avfabera_spb_izdanie_russkogo_kurera_berlin_1901_g.jpg)